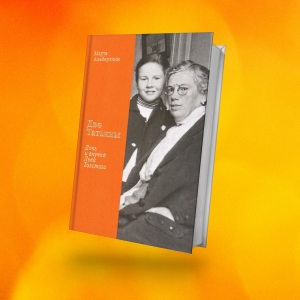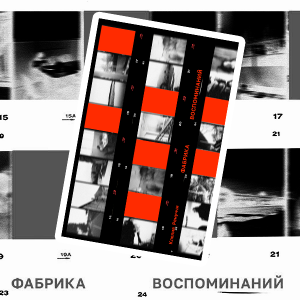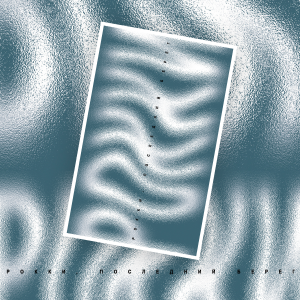«Сад против времени. В поисках рая для всех»: отрывок из книги Оливии Лэнг о связи растений с историей и культурой
Одной из литературных новинок, которых в этом году стоит ожидать, по мнению книжного обозревателя BURO. Анны Поповой, стал свежий нон-фикшен Оливии Лэнг о связи садов с историей и культурой. Выловить «Сад против времени. В поисках рая для всех» издательства Ad Marginem получится уже 17 августа на летнем книжном фестивале «Смены» в Выксе, куда как раз из типографии отправится тираж этой интересной работы — публикуем отрывок.
А мой сад с каждым часом оживал. Газон я первый раз стригла 29 марта — прокосила извилистую дорожку через лужайку около теплицы. Тем же вечером сделала записи в блокноте про летучую мышь в синем воздухе, а потом про мышку-полевку на пороге. Наутро в голубятне объявились галки с пучками прутиков в клювах, вздорно выкрикивая свое «кья-кья-кья». Весна набрала обороты. Мы в первый раз позавтракали в саду, а потом я стала сажать пеларгонии в горшки у пруда: «Суркуф» с ослепительными лепестками цвета маринованной свеклы и «Крокодайл», получивший свое название за пестрые, словно чешуйчатые, листья.
У северной стороны дома была заброшенная треугольная грядочка, а через дорожку от нее грядка побольше и лучше освещенная, которую Иэн назначил своим огородом с травами. Из гравия радостно торчал зимний жасмин, а внизу оказалась мерзкая черная пластиковая мембрана для защиты от сорняков, из тех, что неизбежно разлагаются и превращаются в полоски, которые переживут нас всех. Моррису она точно не понравилась бы. В порыве негодования тем днем я ее вытащила, а в гравий посадила пересаженные фиалки, примулы и морозник вонючий, который я обнаружила чахнущим около мусорных контейнеров.
То был самый жаркий мартовский день за тридцать пять лет. Я выпила чашку чая с горячей пасхальной булочкой, а потом пошла на грядку под окном гостиной, тоже посыпанную гравием, где была посажена неприхотливая лаванда, сейчас лохматая и загрустившая. К концу дня у меня была новая перекопанная грядка, готовая к посадкам. «Роза "ванесса белл?", — записала я, — гвоздики, прострел, мак "ширли?"». В этом смысл садоводства. Возможности безграничны. Через несколько часов я снова записала: «Опять летучие мыши».
Уже от самого разнообразия живой растительности я начинала пьянеть. Белые фиалки, розовый бадан, густые кадмиево-зеленые листья лилейников и, наконец, настоящая предвестница весны — магнолия выпустила свои нежно-розовые лепестки из их футляров, сбросив на траву бархатистые оболочки. Поначалу их было два-три, а на следующее утро словно огромный корабль распустил паруса и встал на якорь на лужайке. Слова «так много дел» появлялись практически на каждой странице моего дневника, а еще «провозилась» — это порой занимало целые дни. Когда стало известно о кончине принца Филиппа, я обрезала буковую изгородь, а после первой прививки от ковида пошла красить теплицу. Иногда в четыре или полпятого утра я была на ногах: выдергивала подмаренник, мастерила треножники и высаживала душистый горошек; стригла кубы самшита, прямо в пижаме, окуная ножницы в раствор хлорной извести, чтобы уберечь растение от парши.
К моему дню рождения в середине апреля я словно забралась в моррисовский орнамент. Неказистый садик у теплицы превратился в поляну, которую я задумала и засадила еще зимой. Красивее всего там было ранним утром и прямо перед закатом, когда низкое солнце просачивалось через зеленые стены грабовой изгороди, освещая пятнистые, словно клетчатые, фиолетовые рябчики, так что они становились похожи на сияющие узоры на турецком ковре. В цветниках у пруда среди волн колокольчиков и желтых маков фонтанами вырывались наверх сизые листья испанского артишока. Маленькая замшелая высокоствольная Viburnum Carlesii, на которую я всю зиму не обращала внимания, выдала необычайные розовые помпоны, распространяющие дурманящие ароматы. Приходил Мэтт и из вишни, которую наконец пора было срубать, вызволил разросшуюся розу. Я оставила его с кружкой «Эрл Грея», а через несколько часов вернулась и увидела, что ему удалось завить старые жесткие стебли розы так, что теперь они петляли по всей задней стене.
Когда стали отчетливо видны голые участки, я начала придумывать примерные планы посадок. Под магнолией мне хотелось посадить группу Narcissus Cyclamineus, похожих на Пятачка, у которого задуло назад уши. Кислотно-желтый с балетным розовым. Под орешник надо еще морозников, баллард-гибридов, у которых в сердцевине темно-красное пятно, а под древовидным пионом, который только раскрыл свои многочисленные махровые лепестки цвета яичного желтка, надо пустить синей волной Anemone Blanda. Ирисов повсюду. Умирающие растения на выброс, новые заняли их места. Rosa Rubrifolia явно мертва. Яснотка коврами разрослась и захватила тенистый бордюр у пруда. Пестрый бересклет не просто выглядит нелепо, а еще и загораживает две трети дорожки. Земляничное дерево, больное, цеанотус, почивший. На их место я посадила еще розовато-зеленых астранций и Geranium Psilostemon, Verbena Hastata сорта «пинк спайерз» и кучу темно-желтых гелениумов. Шесть цвета золотой рыбки, четыре оранжевых и два темных — и сад мгновенно ожил. Тюльпаны отошли, сменились волной пурпурных и белых вечерниц, аквилегий, пурпурным круглоголовым луком и первыми проблесками роз.
Моррис считал, что окружающая среда у всех может и должна быть красивее. Он полагал, что жить в красивых, неиспорченных, незагрязненных местах — это право человека, и думал, как Рёскин, что красота не есть роскошь и что роскошные и ненужные вещи на самом деле некрасивы, так как красота очень тесно связана с необходимостью и естественностью. Один из основных принципов Morris & Co. — нужные вещи обладают достоинством и заслуживают того, чтобы их делали серьезно и хорошо. Как пишет автор биографии Морриса Фиона Маккарти, работа компании строилась на «тех радикальных принципах, когда продукты создаются людьми и для людей». То, что Моррис в конце концов стал обустраивать богатые дворцы, в том числе даже Тронный зал Сент-Джеймсского дворца, отчасти подтолкнуло его к тому, чтобы всем сердцем объять — на самом деле, скорее, по-медвежьи обхватить — социализм, резко превратиться из ремесленника в полноценного марксистского активиста.
В эссе 1894 года «Как я стал социалистом» он формулирует свои воззрения очень просто. «Так вот, с моей точки зрения, социализм — это такой общественный строй, при котором не должно быть ни бедных, ни богатых, ни хозяев, ни подвластных им слуг, ни бездельников, ни неврастеников-интеллигентов, ни удрученных рабочих, — одним словом, такой строй, при котором условия жизни будут равны для всех и каждый сможет плодотворно заниматься своими делами, глубоко сознавая, что ущерб для одного означает ущерб для всех; в конечном счете социализм — это воплощение мечты о "всеобщем благосостоянии"» . Последнее слово — commonwealth — тогда еще не означало Британского Содружества наций, а значит, не имело ассоциаций с колониализмом, а было, напротив, прямым продолжением идеи общей сокровищницы Уинстенли и коммунизма Бармби.
Интересно, что сад, созданный Моррисом у Красного дома, настолько открыто спорит с пейзажными парками «Способного» Брауна и иже с ним, с их зашифрованным посланием о том, что иерархическое устройство общества естественно и непреходяще. В упомянутом эссе и во многих своих размышлениях того времени Моррис открыто выступал против того, что называл вигским мышлением. То же самое так беспокоило меня, когда я читала Горация Уолпола, та же старая опасная мечта, что продолжает привлекать политиков и сегодня: вера в технический прогресс, в достоинства и преимущества развития индустрии, поклонение прибыли, будто она и есть блистательная награда.
Для Морриса это было не просто ностальгией. Вообще, обвинение кого-либо в ностальгии можно рассматривать как часть того же виговского мышления, базирующегося на вере, что человечество непрестанно движется вперед в своих достижениях и что попытки остановить это движение или обратить его вспять — это заведомо плохо и регрессивно, с соответствующими разрушительными социально-экономическими последствиями. Моррис, напротив, полагал, что многие прогрессивные решения были ошибочны, что хорошие простые способы были заменены более дешевыми и быстрыми, что изуродовало жизнь многим людям и сделало их бедными, превратив в миллионеров лишь единицы. Он без стеснения обвиняет в этой тенденции и себя, как поставщика, нанимателя и потребителя, и в одной лекции задает животрепещущий вопрос, который до сих пор тревожит и до сих пор остается без ответа: «Как мы можем пользоваться и наслаждаться чем-либо, что создатель делал с болью и страданием?»
Несмотря на всю любовь Морриса к Средневековью, которой пропитаны «Вести ниоткуда», он не хотел, чтобы люди вернулись в прошлое, где приходилось тягать репу. Он хотел будущего, которое зиждется на равенстве, где в общественном достоянии находится и ценится самый причудливый и ценный ресурс — мир природы. Если бы кто-то прислушался к его предупреждениям. Если Моррису викторианский мир с его индустриализацией, расслоением общества и эксплуатацией виделся «грязным, бесполезным, уродливым недоразумением <…> унылой запущенностью цивилизации», представьте, что бы он подумал в наши дни. Экологическая катастрофа, истребление целых видов живых существ, а одержимость ростом все не кончается, слепая вера в то, что технология нас выведет. Метавселенная, колонии на Марсе, микропластик, общественные перевороты, творимые в Twitter, — в какой ярости и скорби был бы Моррис.
Создание нового общества было для него важнее искусства, в том числе его собственного (однажды он публично задался вопросом: а разве созданные им красивые вещи намного лучше замков, которые строил Людовик XVI?). При этом он считал, что выбор между искусством и революцией — ложный, так как искусство произрастает из «почвы безмятежной процветающей жизни», а потому требует значительной смены общественного порядка, иначе станет просто продолжением капитализма, красивым, но бесполезным наростом. Ни роскошь, ни истощение в понимании Морриса не искусство. Если у художника есть задача, то она такова: показывать путь вперед, создавать питательную среду и пробуждать желание туда добраться. Сколь велика уверенность, заключенная в следующем пассаже:
Искусство должно нарисовать для него правдивый идеал полнокровной и разумной жизни, жизни, в которой восприятие и создание красоты — иными словами, подлинные наслаждение и радость — будут для человека такой же потребностью, как и хлеб насущный. И ни один человек, ни одна группа людей не могут быть лишены этих радостей иначе, как путем насилия, против которого необходимо всеми силами бороться.
Столь же много оптимизма в романе «Вести ниоткуда», в котором Моррис не столько рисует проект общества будущего, сколько приглашает представить себе, какой может быть жизнь, если поменяются приоритеты, если не станет порожденных капитализмом страха, жадности или уязвимости. Как такой мир будет ощущаться, какой у него будет запах, каким он может быть на ощупь. Как люди там будут одеваться, как будут общаться друг с другом. Как могут измениться взаимоотношения между людьми, если они не будут обезображены погоней за прибылью. Гест просыпается в Англии, где не существует денег. Люди работают потому, что им хочется, как садовники, просто из любви что-нибудь делать. Капиталистическая система отчуждения труда растворилась в воздухе.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7